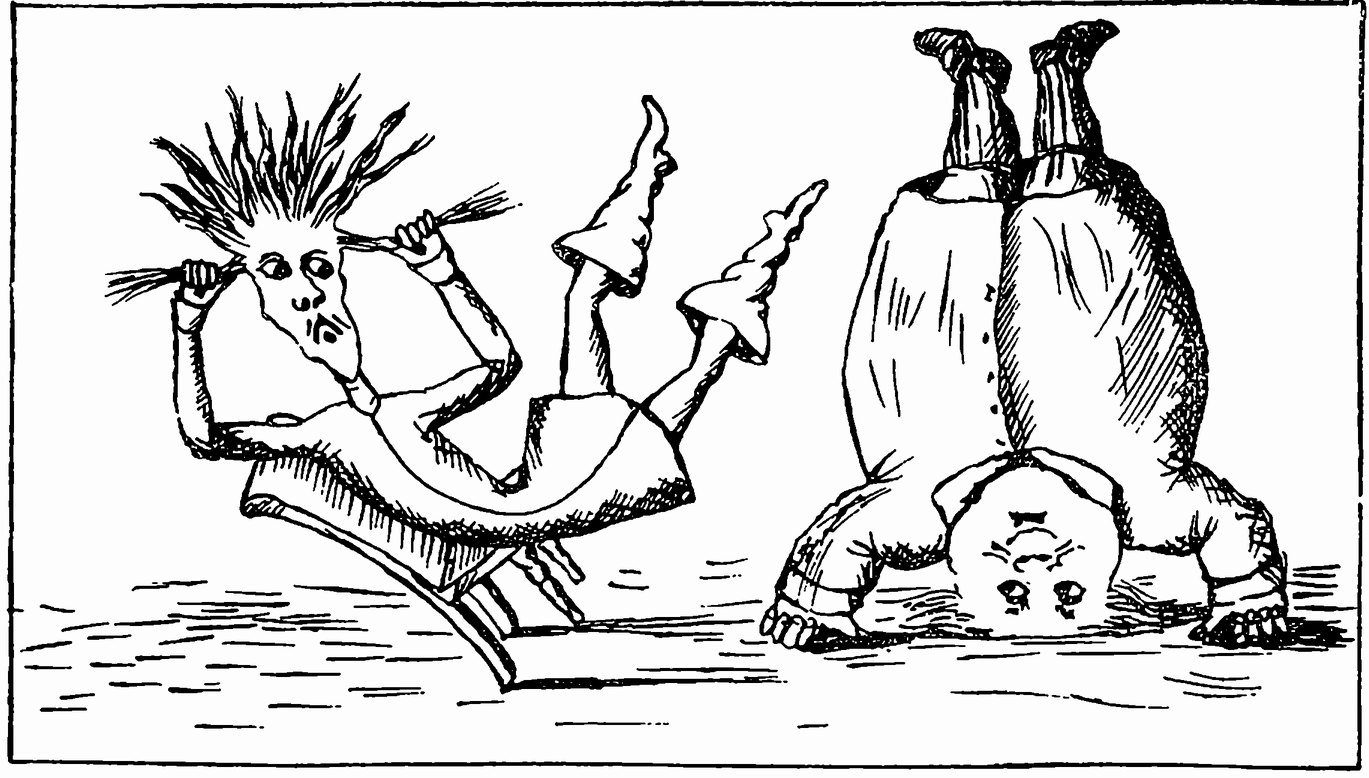|
Главная / Публикации / Н.М. Демурова. «Льюис Кэрролл. Очерк жизни и творчества» Глава II. Нонсенс: раздумья и догадки
Говоря о творчестве Льюиса Кэрролла, исследователи употребляют обычно термин «нонсенс». Термин этот прочно вошел в литературоведение, однако теоретической разработки не получил. Попробуем рассмотреть некоторые из его употреблений, с тем чтобы в конце этой главы наметить кое-какие характеристики охватываемых им понятий. Заметим, что термин «нонсенс» трактуется многими исследователями весьма вольно. В литературно-критических текстах он используется как в узком, так и в более широком смысле. В первом случае этот термин обозначает некий жанр или, вернее, жанровую разновидность: сказка-нонсенс (это об «Алисе в Стране чудес» и «Зазеркалье» в целом), стихотворение-нонсенс (это о «Бармаглоте» или о том стишке, который прочитал Алисе Шалтай-Болтай, в частности), поэма-нонсенс («Охота на Снарка»). Вместе с тем термин «нонсенс» часто используют, имея в виду творческий метод Кэрролла, подобно тому как говорят о реализме Диккенса или о романтизме Лэма. Во всех этих случаях термины «реализм», «романтизм», «нонсенс» требуют серьезных уточнений, ибо даже в таких, казалось бы, устоявшихся понятиях, как «писатель-реалист» или «романтик», кроется много различий и тонкостей. Что уж говорить о нонсенсе, в котором все неясно, неопределенно, зыбко. Исследователи сходятся пока что на немногом: что монополию на нонсенс в мировой литературе держат англичане, что нонсенс нечто совершенно специфически английское, другим нациям подчас даже непонятное, что нонсенс в чистом виде и в Англии представлен всего двумя именами — Льюисом Кэрроллом и Эдвардом Лиром1, что нонсенс переиначивает, «выворачивает наизнанку» обычные жизненные связи, однако совсем не означает, как можно было бы предположить из прямого перевода этого слова, просто «бессмыслицы», «чепухи» и что в нем кроется некий глубинный смысл (nonsense, оказывается, означает и некий sense). Однако, что за смысл в нем кроется, это каждый трактует по-своему. Нередко в нонсенсе видят своеобразную аллегорию, «подстановку», «скрытый код» для описания вполне реальных событий. Чаще всего Кэрролла «расшифровывают» биографическим методом, подставляя под сказочные события «Страны чудес» и «Зазеркалья» события домашней оксфордской жизни, то, что происходило либо в семействе Лидделлов в пору, когда возникли сказки, либо с самим доктором и с его близкими, которых знали дети ректора Крайст Чёрч. Возникшие в своем первоначальном замысле как домашнее развлечение, импровизация, в которой участвовали и сами слушатели, сказки об Алисе, действительно, связаны со всеми этими людьми и происшествиями. Как известно, центральная героиня обеих сказок — это Алиса Лидделл. Ее сестры Лорина и Эдит также «участвуют» в «Стране чудес»: это орленок Эд (Эдит, младшая сестра) и австралийский попугайчик Лори (Лорина), который то и дело твердит: «Я старше, чем ты, и лучше знаю, что к чему!» (26). В той же главе «Море слез» появляются и другие «удивительные существа»: Робин Гусь — участник знаменитого пикника 4 июля 1862 г. Робинсон Дакворт и Птица Додо — сам Доджсон, который, заикаясь, произносил свое имя так: «До-До-додж-сон». Персонажи этого эпизода принимали участие и в другой экспедиции, которая состоялась немного раньше — 17 июня 1862 г., когда Кэрролл взял своих сестер Фэнни и Элизабет, а также тетушку Люси Лютвидж на лодочную прогулку вместе с Даквортом и тремя сестрами Лидделл. В дневнике Кэрролла находим следующую запись: «17 июня (вторник) — экспедиция в Нунхэм. Дакворт (Тринити колледж), Ина (Лорина), Алиса и Эдит поехали с нами. Мы отправились в 12.30, в Нунхэме были к 2; пообедали, погуляли в парке и отправились домой около 4.30. В миле от Нунхэма нас застиг сильный дождь; сначала мы решили перетерпеть, но через некоторое время я предложил оставить лодку и пойти пешком. Пройдя три мили, мы вымокли до нитки. Я пошел вперед с детьми, так как они могли идти гораздо быстрее, чем Элизабет, и отвел их в единственный знакомый мне дом в Сэнфорде, дом миссис Броутон, где живет Рэнкен. Я оставил их у нее сушиться, а сам пошел искать коляску, однако ничего не сумел найти. Когда пришли остальные, Дакворт и я отправились в Иффли и послали им оттуда шарабан» (25). Эта прогулка нашла свое отражение в «Стране чудес», где промокшие до нитки «удивительные существа» пытаются отыскать способ как можно скорее высохнуть и согреться. В первоначальном варианте сказки — «Приключениях Алисы под землей», — деталей, связанных с прогулкой в Нунхэм, было значительно больше, однако позже, готовя сказку к публикации, Кэрролл многие из них снял, считая, что они будут неинтересны читателям, ничего об этой прогулке не знающим. Кое-что все-таки осталось, в частности выдержка из учебника истории, которую Мышь зачитывает с важным видом (гл. III. «Бег по кругу и длинный рассказ»). Как выяснил Р.Л. Грин, приводимая выдержка взята из вышедшего в 1862 г. учебника истории Хэвилленда Чемпелла, по которому занимались девочки Лидделл. Есть в сказке и другие цитаты из учебников — латыни и французского языка, хорошо знакомые сестрам Лидделл (см. гл. II. «Море слез»). Дальнейшие главы «Страны чудес» также изобилуют деталями и намеками, связанными с событиями домашней жизни, хорошо известными как Кэрроллу, так и детям ректора Лидделла. В них, например, упоминается кошка Дина, которая жила в доме ректора и была особой любимицей Алисы, и апельсиновый джем, рецепт которого хранился в семействе Лидделл, попав к ним, возможно, из Шотландии2. Болванщика, одного из участников Безумного чаепития (гл. VII), дети, верно, тоже хорошо знали, как знали его все в Оксфорде: это был Картер, чудаковатый торговец мебелью, живший неподалеку. «Его прозвали так, — сообщает М. Гарднер, — отчасти из-за того, что он всегда носил цилиндр, отчасти из-за его эксцентричных идей. Изобретенная им "кровать-будильник", которая будила спящего, выбрасывая его в нужную минуту на пол (она выставлялась в Хрустальном дворце на Всемирной выставке в 1851 г.), помогает понять, почему Болванщика у Кэрролла так волнует мысль о времени и о том, чтобы разбудить Мышь-Соню. Нельзя не отметить, что в этом эпизоде много предметов, напоминающих о профессии Картера (стол, кресло, конторка)» (56). Мышь-Соня, другой персонаж Безумного чаепития, также была небезызвестна в Оксфорде. Судя по опубликованным в 1906 г. «Воспоминаниям Уильяма Майкла Россетти», «прототипом» для Сони, возможно, послужил ручной зверек — вомбат, имевший обыкновение спать на столе у поэта Данте Габриеля Россетти. Кэрролл знал семейство Россетти и порой навещал их. В главе о Безумном чаепитии снова появляются и три девочки Лидделл. Это «три сестрички» из рассказа Сони, которые жили на дне колодца. Их имена — Элси, Лэси и Тилли — переиначенные имена Алисы и ее сестер. «Элси» воспроизводит инициалы Лорины-Шарлотты (L.C., т. е. Lorina Charlotte); «Тилли» — сокращение от шуточного имени Матильда, которое было присвоено в семействе Лидделлов Эдит; «Лэси» (Lacie) — анаграмма имени Алисы (Alice) (62). Упоминание о поездке Алисы к морю, оказывается, тоже основано на реальном факте: это поездка в Ллэндадноу летом 1861 г. Точно так же навеяны реальными фактами и многие другие эпизоды книги. Из воспоминаний Алисы Лидделл стало известно, что, когда бы она и ее сестры ни навестили Доджсона, всегда оказывалось, что они пришли «как раз к чаю», что и нашло свое отражение в главе о Безумном чаепитии. Не случайно и описание того, как Болванщик и Мартовский Заяц пытаются засунуть Мышь-Соню в чайник. Р.Л. Грин сообщает, что «викторианские дети часто держали этих мышек дома. Чаще всего искусственным гнездом, в котором зимовала ручная мышь, служил старый чайник, выложенный мохом или сухой травой»3. В «Зазеркалье» исследователи находят не меньше оснований для биографических «дешифровок» подобного рода. Мы узнаем, что Снежинкой звали котенка, принадлежавшего Мэри Макдоналд, дочери доброго друга Доджсона писателя Джорджа Макдоналда, и что его старшую дочь Лили он изобразил под видом белой пешки (112; 136). Мы знакомимся с двумя младшими сестрами Алисы Лидделл — Родой и Вайолет; они появляются в главе «Сад, где цветы говорили» под видом розы и фиалки (Violet по-английски и означает фиалку). Черная Королева, как предполагают, имела немало общего с мисс Прикетт, гувернанткой девочек Лидделл, которую дети прозвали Колючкой (Pricks), — отсюда, вероятно, упоминание о «девяти шипах» на голове у Королевы (132—134). Сам же сад, где цветы говорили, и последующий бег на месте были, очевидно, навеяны другой прогулкой с Алисой и мисс Прикетт, когда Кэрролл приехал навестить детей в Чарлтон Кинге 4 апреля 1863 г.4 Эпизод с путешествием в поезде (глава «Зазеркальные насекомые») также возник как отзвук реальных событий; 16 апреля 1863 г. Доджсон ехал с девочками Лидделл, возвратившимися из Чарлтон Кинге в Оксфорд. Доджсон встретил их в Глостере. «Поезд из Челтнема в 2.40 привез трех девочек Лидделл и мисс Прикетт, и мы очень весело доехали до Оксфорда вместе», — пишет он в дневнике. Это же путешествие, возможно, подсказало Кэрроллу и самую топографию Зазеркалья. «Следует отметить, — указывает Р.Л. Грин, — что железнодорожная линия между Глостером и Дидкотом пересекает ручей Свилл, ручей Дерри, реку Кей, реку Коул, ручей Чилдри и ручей Летком, причем обе "реки" настолько близки к своим истокам, что на деле также являются ручьями»5. Шесть ручейков-горизонталей, которые в «Зазеркалье» предстоит преодолеть пешке-Алисе, для того чтобы стать королевой, были, возможно, подсказаны шестью «ручьями», которые пересек поезд 16 апреля 1863 г. Эпизод же с Овцой связывают с лодочными прогулками на реке, когда Кэрролл учил Алису грести, а та не делала особых успехов. Аналогии множатся, нарастают, грозя разбить тексты обеих сказок на серию более или менее «расшифрованных» эпизодов домашней жизни, превратив их вряд семейных шуток, внутренний смысл которых в силу стечения обстоятельств и скрупулезности исследователей стал отчасти понятен посторонним. Впрочем, исследователи с грустью признают, что «смысл» многих подробностей и деталей в настоящее время безнадежно утрачен, вследствие чего ряд эпизодов не поддается расшифровке. Вряд ли кто-либо станет сейчас отрицать пользу добротного биографического знания при изучении литературного произведения. Сведения такого рода, безусловно, полезны и при изучении произведений Кэрролла. Однако правомерно ли сводить к подобной «расшифровке» все содержание и смысл произведения? На этот вопрос трудно ответить утвердительно. Ведь произведение литературы существует по своим внутренним законам, представляя собой некое организованное целое, систему совсем иного порядка, чем биография человека, создавшего его. Что дают факты жизни Кэрролла, с такой скрупулезностью собранные исследователями, для понимания самой сути нонсенса, его законов, приемов, особенностей? И, наконец, разве читатель, не знающий ничего ни о самом Кэрролле, ни о его отношениях с детьми ректора Лидделла, не в состоянии оценить «пьянящее молодое вино» нонсенса? Кэрролл был «разнообразным» и разносторонним человеком, вероятно, это и породило то разнообразие в «дешифровках» его сказок, которым отмечены многие работы о нем. Показательна в этом отношении работа Шана Лесли, автора ряда богословских трудов, в частности солидной монографии о кардинале Мэннинге. Он интерпретирует сказки Кэрролла в свете религиозных споров, шедших в Оксфорде в 40—70-е годы прошлого века. «Вряд ли будет профанацией предположить, что в "Алисе в Стране чудес", возможно, скрывается история Оксфордского движения», — заявляет он6. При таком прочтении Алиса — наивный первокурсник, оказавшийся в гуще богословских споров той поры; Белый Кролик — скромный англиканский священник, пуще всего боящийся своего епископа (Герцогиня); банка с апельсиновым джемом (orange marmalade) — многозначительный намек на «протестантизм старого образца, связанный с именем бессмертного короля» (т. е. Вильгельма Оранского). Двери в зале, по мысли Ш. Лесли, символизируют английскую Высокую и Низкую церковь; золотой ключик — ключ священного писания; пирожок, от которого откусывает Алиса, — святую догму. Кошка Дина, которой так боится церковная Мышь, конечно, католичка, а Алисин скотчтеррьер, будучи шотландцем, — пресвитерианец, что также весьма неприятно Мыши. Всевозможные пертурбации, вызванные желанием Алисы подрасти или уменьшиться ростом, Ш. Лесли объясняет колебаниями английского верующего между Высокой и Низкой церковью. «Зазеркалье» представляется Ш. Лесли несколько более трудным для интерпретации, однако он составляет следующую гипотетическую таблицу, в которой соотносит персонажей Кэрролла с событиями Оксфордского движения и его участниками:
Согласно Ш. Лесли, «Зазеркальная жизнь, в которой все возникает в обратной перспективе, есть символ жизни сверхъестественной», а Бармаглот — не что иное, как отвратительный символ папства. Белый Рыцарь, как явствует из таблицы, составленной Ш. Лесли, «представляет науку эпохи викторианства или Гексли в его самоуверенном изобретательстве». Соответственно Черный Рыцарь олицетворяет его старого врага епископа Уилберфорса. «Оба достигают одной и той же клетки на шахматной доске одновременно и оба пытаются взять Алису в плен. Это знаменитое столкновение между Уилберфорсом и Гексли на заседании Британской Ассоциации в 1866 г.»7 Другой вариант «исторического» прочтения Кэрролла предлагает Ч.У. Скотт-Джайлз. Он считает, что Кэрролл использовал некоторые исторические эпизоды и даже фигуры в своих сказках. Он задается вопросом «Где же Алисин Герцог?» в связи со сценой на кухне у Герцогини. «Ответ на этот вопрос можно найти, если задуматься над личностью младенца. Сын Герцога, ставший свиньей, — кто это, как не Ричард Глостер, взошедший на трон под именем Ричарда III, взяв своим знаком белого кабана, и прозванный "кабаном" политическими памфлетистами? Когда он родился в октябре 1452 г., его отец, Ричард, герцог Йоркский, жил в изгнании после первой неудавшейся попытки удалить Сомерсета из королевского совета. Если иметь в виду вражду между Йорком и королевой Маргаритой, становится понятно, почему герцог не получил королевского приглашения на партию в крокет. Решимость Маргариты сохранить власть Ланкастеров и не допустить к ней Йорка находит свое отражение в «Алисе»: королева требует, чтобы все розы в королевском саду были алыми, так что садовники спешат покрасить в алый цвет Ланкастеров розы Йорка»8. Скотт-Джайлз находит в кэрролловском тексте немало других примеров в подтверждение своей гипотезы. Интересно, что все они связаны с теми учебниками истории, по которым занимались девочки Лидделл, и потому в отличие от теологических построений Ш. Лесли имеют более прямое отношение к тексту Кэрролла. Больше всего написано о Кэрролле и его сказках приверженцами психоаналитических толкований. Примечательно, что в представительной антологии «Аспекты "Алисы"», раздел, посвященный фрейдистским оценкам Кэрролла и его творчества, имеет самый внушительный объем. К этому следовало бы прибавить и некоторые биографические очерки, идущие в этом солидном томе под другими рубриками, однако нередко носящие тот же характер. Эта тенденция к психоаналитическому прочтению «Алисы» была подмечена в самом начале ее возникновения Дж. Б. Пристли, который, узнав о новых переводах «Алисы» на немецкий язык, написал ядовитую «Заметку о Шалтае-Болтае» (1921). С редкой проницательностью он пророчил, что с «Алисой» будет то же, что «произошло с Шекспиром». «Комментаторов соберется целая туча, и добрая тысяча важных тевтонцев усядется писать толстые тома комментариев и критических исследований; они примутся сопоставлять и сравнивать героев (даже ящерке Биллю будет посвящена коротенькая глава) и предложат множество противоречивых истолкований кэрролловских шуток. Вслед за этим на сцене неизбежно появятся Фрейд и Юнг со своими последователями, и нам предложат ужасающие тома о Sexualtheorie* "Алисы в Стране чудес", об Assoziationsfähigkeit и Assoziationsstudien** Бармаглота и о сокровенном смысле конфликта между Труляля и Траляля с психоаналитической и психопатологической точек зрения. Впервые мы поймем, наконец, специфически отвратительный символизм Безумного чаепития, а мой старый приятель Болванщик предстанет перед нами всего-навсего как сплетение неврозов. Что касается Алисы... но, нет, Алису пощадят: я во всяком случае не собираюсь разрушать иллюзий задумчивой тени Льюиса Кэрролла; да пребудет он еще немного в неведении о том, что на самом деле происходило в Алисиной головке, этой, с позволения сказать, Алисиной Стране чудес»9. Пристли ошибся лишь «географически»: большая часть работ психоаналитического толка вышла в Англии и США10. О распространенности психоаналитического прочтения «Алисы» свидетельствует, например, следующий отрывок из беседы двух выдающихся мастеров современной культуры — А. Моравиа и Ф. Феллини (речь идет о фильме Феллини «Джульетта и духи»): «Моравиа. Я сравнил бы Джульетту с Алисой из книги "Алиса в Стране чудес", как вследствие скудности и узости ее взглядов, которые, впрочем, показаны режиссером с симпатией и любовью, так и вследствие тех отношений, которые с самого начала устанавливаются между героиней и чудовищами из подсознания и повседневной жизни: эти отношения юмористичны, с оттенками удивления, любопытства и ханжества. Феллини. Мне кажется, что это очень острое наблюдение»11. К этому следовало бы добавить ряд шахматных интерпретаций, в которых «Алиса в Зазеркалье» рассматривается как своеобразная шахматная задача. Порой шахматный принцип трактуется более широко; «Зазеркалье» в таком случае предстает как некий двойной код: сначала для фантастической шахматной задачи (fairy chess problem), затем для столь же фантастической «шахматной морали» (fairy chess moral), с помощью которой Кэрролл, как предполагает, например, А. Дикинс, рассуждает о «конечной цели бытия в жизни и небытия в смерти»12. С точки зрения Дикинса, в «Зазеркалье» можно различить по меньшей мере «три слоя»: легковесную детскую сказку; затем — пародийную шахматную мораль, в глубине которой кроется свой подтекст: «сложная метафизическая философия, в основе которой лежит христианская религия». «Комбинированная» методика применяется и в других работах, далеких от шахмат. Такова статья «Сквозь зеркало» Эликзендера Тейлора. Автор не одобряет категоричности Ш. Лесли или интерпретаторов-психоаналитиков. Он предваряет свои заметки заверением, что не собирается «выжимать последнюю каплю смысла из каждого слова»13. Он рассматривает «Зазеркалье» как «сатиру, направленную против споров по религиозным вопросам», и отмечает, что Кэрролл «производил свои изыскания в основном на "ничейной земле", лежащей между математикой и богословием, куда он уже делал ранее короткие набеги»14. По мысли Тейлора, шахматы для Кэрролла были не просто игрой. «Будучи математиком, он видел шахматную доску как разделенный на квадраты лист бумаги, позволяющий воспроизвести график любой ситуации; будучи богословом, он видел в двух сторонах доски гораздо более действенный способ представить противоборствующие фракции в церкви и университете, чем любой из тех, который он использовал ранее». Американский богослов А. Эттелсон предлагает декодировать «Зазеркалье» с помощью сложной системы подстановок, в результате которой из отдельных слов кэрролловского текста возникают отдельные слова и речения ветхозаветного текста15. Трудно сказать, насколько серьезно написаны его работы, ведь среди публикаций о Кэрролле немало тонких мистификаций16. Число примеров различных аллегорически-концептуальных прочтений можно было бы умножить. Однако даже в тех, которые мы привели выше, ясно вырисовывается тенденция, характерная для большей части современных работ о Кэрролле: тенденция «вчитать» в его сказки то содержание, тот смысл и контекст, которые прежде всего видятся данному автору в связи с конкретной областью его интересов и исследований. Степень оправданности подобных попыток в различных случаях различна, однако нельзя не признать, что диапазон интерпретаций, вероятно, объясняется некими свойствами самих сказок Кэрролла. Ведь ни одно из других произведений современных Кэрроллу авторов не вызывало столько настойчивых попыток различных интерпретаций. А среди них (не говоря уже о таких именах, как Теккерей или Диккенс) было немало писателей, несравненно превосходящих Кэрролла и талантом, и литературным мастерством. Естественно предположить, конечно, что непосредственная научная «специализация» Кэрролла — математика — и его интерес к той особой ее области, которая получила впоследствии название математической логики, нашли свое отражение в книге, не столько в отдельных эпизодах или персонажах, сколько в своеобразии предложенного Кэрроллом метода. Однако вряд ли было бы правомерно пытаться представить сказки Кэрролла как закодированное изложение некой умозрительной теории, придавая каждому из действующих лиц или эпизодов конкретный «домашний», «исторический», «шахматный», «физиологический» или «теологический» смысл. Неправомерно прежде всего потому, что каждое произведение следует судить по законам того жанра, в котором оно создано. При всем интересе Кэрролла к конкретно научной и общефилософской мысли (интересе, получившем несомненное отражение в его творчестве) «Алиса» прежде всего не богословский или философский трактат, не математическое или логическое сочинение, а произведение литературы, многими нитями связанное с литературно-историческим контекстом той поры. В этом плане следует вспомнить также и то, что сам Кэрролл неоднократно протестовал против попыток «вчитать» какой бы то ни было аллегорический смысл в его сказки, хотя при жизни писателя эти попытки не выходили за рамки чисто литературные. Он не уставал повторять, что его сказки (особенно первая) возникли из желания «развлечь» его маленьких приятельниц и что он не имел в виду никакого «назидания». В своем творчестве Кэрролл сознательно выступал против однолинейности, характерной для аллегорических, «моральных» или дидактических книжек той поры. Снова и снова в ответ на вопрос критиков и читателей он повторял, что хотел лишь «развлечь» и что его нонсенс не значит решительно ничего. В этой настойчивости видится прежде всего понятное желание писателя защититься от произвольных аллегорий. Вероятно, следует принять во внимание и то, что в литературном контексте середины XIX в. термин «развлечение» выступал неизменно в оппозиции «развлечение — назидание» со всем комплексом связанных с ними понятий. Пытаясь подыскать ему аналог в системе понятий наших дней, мы приходим к «художественности», трактуемой весьма широко. При чтении сказок Кэрролла бросается в глаза насыщенность их литературными реминисценциями и пародиями. Западные исследователи немало потрудились над тем, чтобы расшифровать эти литературные аллюзии. Это, во-первых, многочисленные стихотворные пародии, в которых, по мнению большинства специалистов, Кэрролл высмеивает унылую дидактическую литературу той поры, издеваясь над прописными истинами здравого смысла «четырех стен». Мы еще вернемся к вопросу о пародиях в «Стране чудес» и «Зазеркалье», пока что заметим только, что пародийная стихия в обеих сказках очень сильна и вовсе не ограничивается одними стихотворениями. Вместе с тем наряду с пародиями в текстах двух сказок об Алисе немало прямых и косвенных цитат из других авторов, аллюзий, заимствований, которые звучат отнюдь не пародийно. Сам Кэрролл не раз признавал, что при сочинении «Алисы» использовал всякие «клочки и обрывки». Вопрос о том, «едят ли кошки мошек», возможно, навеян строками из «Золотой нити» (1861) Нормана Маклеода; золотой ключик — стихотворением и сказкой Джорджа Макдоналда17; в сцене с Гусеницей и грибом слышатся отзвуки «Бала бабочек» (1806) Уильяма Роскоу. «Зазеркалье» разрабатывает тему зеркала, предложенную, в частности, тем же Макдоналдом в романтической вставной новелле о Космо Верштале, бедном студенте Пражского университета (роман-сказка «Фантазия», 1858); Белый Рыцарь напоминает Грустного Рыцаря в «Фантазии» Макдоналда, а возможно, и Дон Кихота18. Было замечено, что в первой главе «Зазеркалья» слышатся отзвуки «Сверчка на печи» Диккенса и его пародистов19, в «Стране чудес» находят цитаты из «Энеиды»20 и «Божественной комедии»21. Особенно интересны в этом плане реминисценции из Шекспира, которого Кэрролл прекрасно знал и любил. Драмы Шекспира он видел на сцене в исполнении таких блестящих актеров, как Генри Ирвинг и Эллен Терри, которой особенно восхищался как «совершенной Офелией». В тексте сказок находим немало скрытых цитат, на которых порой строится диалог. Укажем на разговор Алисы с Комаром в главе о Зазеркальных насекомых: «— Но я могу вам сказать, как их зовут. — А они, конечно, идут, когда их зовут? — небрежно заметил Комар. — Нет, по-моему, не идут. — Тогда зачем же их звать, если они не идут?» (144). В этом диалоге отголоском звучат шекспировские строки («Генрих IV», I, III, 1): Глендаур Любимая фраза Королевы из «Страны чудес», как указывает Р.Л. Грин, — это прямая цитата из «Ричарда III» (III, IV, 74); максима Герцогини из главы о Черепахе Квази переиначивает строку из «Сна в летнюю ночь» (IV, I, 72); заключение Чеширского Кота при первой встрече с Алисой («Конечно, ты не в своем уме. Иначе как бы ты здесь оказалась?») приводит на ум строки из «Макбета» (I, V, 33)22. Все эти детали, конечно, весьма интересны, однако простое установление факта заимствования или использования еще ничего не дает. Фактические заимствования из Шекспира, например, интересны не сами по себе, а потому что позволяют, как нам кажется, сделать вывод: в построении обеих сказок об Алисе используется принцип «диффузной метафоры», характерный для таких произведений Шекспира, как «Сон в летнюю ночь» или «Буря». Трактовка времени и пространства у Кэрролла также обнаруживает ряд принципиальных черт сходства (но, разумеется, и различия!) с Шекспиром. Многочисленные аллюзии и заимствования у Кэрролла представляют, по-видимому, особый интерес для исследователя еще и потому, что позволяют говорить о «диалогичности» его сказок: каждая из деталей вводит свою тему, подвергая переосмыслению исходный, заимствованный образ. «Чужие слова», включаясь в новый контекст, начинают жить двойной жизнью: не теряя первоначального смысла, на который они прямо указывают, они в то же время дают свое истолкование предложенного образа и темы. Интересны в этом отношении реминисценции из Макдоналда. Герою сказки Макдоналда золотой ключик в отличие от Алисы дается в руки сразу, но дверь, которую ему надлежит им открыть, можно найти лишь после долгих поисков. Этому он посвящает всю жизнь. Странствия в поисках Страны Золотого Ключика превращаются в сложную аллегорию жизненных странствий в поисках высшей правды. Мечта о таинственной двери, которую должен открыть золотой ключик, соединяется в воображении героев с мечтой о «стране, откуда падают тени»; отголоски платоновских идей, «Пути паломника» Бэньяна и христианской мифологии соединяются в разветвленную систему символики. Лишь в смерти находит герой Макдоналда страну, поискам которой он посвятил всю жизнь. Смерть толкуется Макдоналдом как «часть жизни», поиски высшей правды не завершаются окончательно и там. Нетрудно заметить, в каком направлении идет внутренняя полемика Кэрролла с концепцией Макдоналда: в чудесном саду, куда, наконец, с помощью золотого ключика попадает Алиса, нет места стройным аллегориям, там царят хаос, бессмысленность, произвол. Разветвленная система реминисценций, прямых и косвенных аллюзий создает вокруг внешне простых сказок Кэрролла богатейший звуковой фон, в котором звучат многие голоса. Укажем еще на ряд возможных заимствований ш Диккенса, особенно важных для нас потому, что они позволяют наглядно проследить некоторые особенности нонсенса. Речь в данном случае пойдет о романе Диккенса «Наш общий друг», который печатался выпусками на протяжении 1864—1865 гг. Последняя страница помечена Диккенсом 2 сентября 1865 г. («Страна чудес вышла ô конце декабря 1865 г., «Зазеркальем — в 1871 г., когда Диккенса уже не было в живых). Кэрролл, неизменно с огромным интересом читал все новые публикации Диккенса: очевидно, следил он и за выпусками «Нашего общего друга», в котором обнаруживается ряд эпизодов и деталей, сходных со «Страной чудес» и «Зазеркальем». Вряд ли подобное сходство можно объяснить простым совпадением, случайностью или даже некоторыми типологическими аналогиями. В этом нас убеждает, в частности, и анализ диккенсовских аналогий в «Стране чудес». Примечательно, что они отсутствуют в первом, рукописном варианте сказки (1862 г.). Так, например, Чеширский Кот и его знаменитая улыбка появились лишь в окончательном тексте сказки, вышедшем в 1865 г. В тексте романа Диккенса найдем многочисленные ссылки на детские песенки, игры, скороговорки, многие из которых обыгрывает и Кэрролл. Здесь и ссылка на скрипачей из детской песенки «Старый дедушка Коль», и скороговорка о Питере Пайпере, и сравнение с матушкой Хаббард, и намек на сказку «Джек-истребитель великанов» и пр.23 Персонаж Диккенса, несчастный Брэдли Хэдстон, впервые встретившись с маленькой Дженни Рен, пытается отгадать, что она мастерит из соломы. Маленькая швея подсказывает ему: «— Вот отгадайте загадку, это будет вам вроде подсказки. Я люблю тебя, когда ты начинаешься на "У", потому что ты красивая. Я бегу от тебя, когда ты начинаешься на "К", потому что ты капризная. Мы пойдем с тобой в "Королевскую корону", и я подарю тебе капор. Зовут тебя Кривляка, а живешь ты в курятнике. Ну, что я делаю из соломы?» (25, 269). Маленькая швея использует здесь схему известной детской игры, проницательно намекая в то же время в последней фразе на характер и обстоятельства своего гостя. Тот же прием находим у Кэрролла в «Зазеркалье» в сцене с англосаксонскими гонцами. Король представляет Алисе одного из них. «...A зовут его Зай Атс. — "Мою любовь зовут на З", — быстро начала Алиса. — Я его люблю, потому что он Задумчивый. Я его боюсь, потому что он Задира. Я его кормлю... Запеканками и Занозами. А живет он... — Здесь, — сказал Король, и не помышляя об игре: пока Алиса искала город на "З", он в простоте душевной закончил ее фразу»24. Далее обыгрываются некоторые из этих «атрибутов» Гонца. «— Ты меня пугаешь! — сказал Король. — Мне дурно... Дай мне запеканки! К величайшему восторгу Алисы, Гонец тут же открыл сумку, висевшую у него через плечо, вынул запеканку и подал Королю, который с жадностью ее проглотил. — Еще! — потребовал Король. — Больше не осталось — одни занозы, — ответил Гонец, заглянув в сумку. — Давай занозы, — прошептал Король, закатывая глаза. Занозы Королю явно помогли, и Алиса вздохнула с облегчением. — Когда тебе дурно, всегда ешь занозы, — сказал Король, усиленно работая челюстями. — Другого такого средства не сыщешь!» («Зазеркалье», гл. VII). Уже из приведенных цитат становится очевидным кардинальное различие в использовании этого приема в контексте произведений двух писателей. У Диккенса реальные обстоятельства диктуют конкретные слова игры; у Кэрролла конкретные слова игры, произвольно выбранные Алисой только потому, что и то, и другое начинается на заданную букву, диктуют, определяют дальнейший ход событий. Загадки, которые встают перед героями Диккенса, а вслед за ним и Кэрролла, подчас не так просты и невинны, как загадка маленькой швеи. Вспомним признание Юджина Рэйберна, который в разговоре со своим другом Мортимером Лайтвудом рассказывает о своих попытках понять собственный характер. «Ты знаешь, что, став взрослым и признав себя ходячей загадкой, я изо всех сил старался разгадать ее и наскучил самому себе до предела. Ты знаешь, что под конец я оставил эти попытки и на все махнул рукой. Кто же может требовать от меня ответа, если я до него не докопался? Помнишь старинную детскую загадку? "Думай, голову ломай, — кто я, кто я, отгадай"» (24, 348). Как известно, та же «загадка» мучает на протяжении ее странствий по подземному миру и Алису. «А ты кто такая?» — спрашивает Алису Синяя Гусеница («Страна чудес», гл. V), и Алиса снова и снова признается себе в том, что не может ответить на этот вопрос. Переведенный в «детский» и, казалось бы, шуточный план — а может быть, я Ада? Или Мейбл? вопрос этот, конечно, звучит в иной тональности, чем у Диккенса. И все же он возникает настолько часто, что дает основания говорить о нем, как об одной из основных тем сказки. Заимствования из Диккенса, вообще говоря, распространяются далеко за пределы простого цитирования детских песенок или загадок. Вот как описывает Диккенс первое посещение мистером Боффином пропыленной конторы Мортимера Лайтвуда и его беседу с клерком этого адвоката: «И юный Вред весьма торжественно извлек из своей конторки длинную и тощую записную книгу в оберточной бумаге и забормотал, водя пальцем сверху вниз по странице: "Мистер Агз, мистер Багз, Мистер Вагз, мистер Гагз, мистер Боффин. Да сэр, совершенно верно. Вы пришли немножко рано, сэр. Но мистер Лайтвуд скоро вернется"». Стремясь поддержать репутацию своего хозяина, клерк важно записывает мистера Боффина в список посетителей. «Юный Вред все так же торжественно достал другую книгу, взял перо, пососал его, обмакнул в чернила и, прежде чем вписать фамилию мистера Боффина, провел пальцем по длинному столбцу имен. — Мистер Алли, мистер Балли, мистер Валли, мистер Галли, мистер Далли, мистер Жалли, мистер Залли, мистер Илли, мистер Калли. И мистер Боффин» (24, 109). Интересно сравнить этот отрывок из Диккенса с письмом, написанным Кэрроллом одной из его маленьких приятельниц: «Моя дорогая Энни! Это, действительно, ужасно! Ты даже представить себе не можешь, сколь велико мое горе. Пришлось мне раскрыть зонтик, чтобы слезы, ручьями текущие из моих глаз, не залили это письмо. Ты пришла вчера фотографироваться? И очень рассердилась? Почему же меня не было? Вот как это случилось. Вчера я и Бибкинс — мой дорогой друг Бибкинс! — отправились на прогулку. Мы вышли из Оксфорда и отшагали много миль — пятьдесят, нет! миль сто, по меньшей мере. Мы шли по полю, на котором паслись овцы, и вдруг в голову мне пришла одна мысль. "Добкинс, — спросил я взволнованно, — который теперь час?" "Три", — ответил Физкинс, несколько удивленный моим тоном. По щекам у меня побежали слезы. "Это тот самый ЧАС!" — закричал я. "Скажи мне, Гопкинс, умоляю тебя, какой сегодня день?" "Понедельник, конечно", — ответил Лапкинс. "Это тот самый ДЕНЬ", — завопил я, стеня и рыдая. Овцы окружили меня и терлись своими теплыми, любящими носами о мой холодный нос. "Мопкинс, — сказал я, — ты мой самый старый и верный друг! Скажи мне правду, Напкинс, умоляю тебя. Какой сейчас год?" "Гм... по-моему, 1867", — отвечал Пипкинс. "Это тот самый ГОД", — закричал я так громко, что Топкинс упал без чувств. Все было кончено. Домой меня везли в тачке. Осколки моего сердца лежали на дне, а верный Вопкинс шел рядом и держал меня за руку. Когда я немного поправлюсь от перенесенного удара и поживу несколько месяцев на море, я зайду к тебе и мы договоримся о другом дне для фотографирования. Сейчас я слишком слаб и не могу даже писать сам. Это письмо пишет под мою диктовку Запкинс. Твой несчастный друг Льюис Кэрролл»25. Сравнивая эти отрывки, снова видишь не только несомненное сходство приема, но и ту совершенно особую роль, которую играет один и тот же прием в произведениях двух писателей. В романе Диккенса обыгрывание длинного ряда несуществующих посетителей, организованного по алфавиту, несет вспомогательную функцию. Нарушение самого принципа организации — неожиданное (не по алфавиту) добавление «и мистер Боффин» дает нам возможность уяснить всю глубину профессиональных неудач Мортимера Лайтвуда, в то же время характеризуя юного Вреда, не желающего признаться в этом перед первым и единственным посетителем. Фамилия Боффин, врывающаяся в строго организованный, последовательный алфавитно-аллитеративный ряд, производит впечатление резкого диссонанса и вызывает комический эффект. В миниатюрной новелле, написанной в духе нонсенса, которой, безусловно, является письмо Кэрролла, алфавитно-аллитеративный принцип применен не по отношению к некоему ряду несуществующих людей, но по отношению к одному и тому же, хотя, очевидно, в той же мере нереальному, лицу. Принцип этот — что гораздо важнее — во многом определяет само сюжетосложение. Рассказ о прогулке с верным другом, имя которого бесконечно варьируется, может восприниматься и как своеобразная «рамка» для самих вариаций этого имени. Во всяком случае принцип вариаций у Кэрролла никак не менее важен, чем самый сюжет. Так один и тот же прием в разных художественных контекстах становится элементом различных систем, играя принципиально различные роли. В реалистической системе Диккенса это всего лишь подсобная, проходная деталь; в эксцентрической миниатюре Кэрролла этот прием приобретает ведущее значение. Конечно, мы отвлекаемся в данном случае от характеристики всего несходства между реалистическими полотнами Диккенса и эксцентрическими произведениями Кэрролла, которое настолько очевидно, что вряд ли стоит специально говорить о нем. Продолжив эти сравнения, видим, как разнообразны различия, диктуемые осмыслением одних и тех же деталей в произведениях разных поэтик. Вот бедная маленькая швея у Диккенса, сама еще ребенок, искалеченная болезнью и нищетой, давно привыкшая думать о себе, как о взрослой, жалуется на детей: «— Только им и дела, что бегать, кричать, играть во всякие игры, драться. Только им и дела, что скок-скок-скок на одной ножке по тротуару да чертить по нему мелом. Мне их повадки и фокусы давно знакомы... Кто заглядывает в чужие замочные скважины и кричит всякие обидные слова и передразнивает, какая у кого спина и ноги? Да, да! Мне их повадки и фокусы давно известны. А знаете, какое я придумала им наказание? У нас на площади есть церковь, а под этой церковью черные двери в черное подземелье. Так вот — отворила бы одну такую дверь и затолкала бы туда их всех, а потом — дверь на замок, и в замочную скважину — перцу им, перцу! — А перцу зачем? — спросил Чарли Хэксем. — Чтобы чихали, — пояснила хозяйка дома, — и обливались слезами» (24, 271). У Кэрролла в главе «Поросенок и перец» («Страна чудес», гл. VI) также фигурируют запертые двери и перец, от которого чихают и Алиса, и Герцогиня, и младенец, что позже определяет песенку Герцогини: Лупите своего сынка Исследователи Кэрролла указывают на стихотворение посредственного стихотворца Бейтса, которое пародировал в данном случае Кэрролл (49—50). Вместе с тем здесь, возможно, слышится и отзвук приведенного эпизода Диккенса. На эту мысль наводит, в частности, появление перца в этой сцене. В таком случае не исключено, что сцена у Герцогини представляет попытку — насколько осознанную, трудно сказать — защититься от страшных тем болезни, нищеты, увечья. Подобную «снимающую» роль смех играет у Кэрролла и в ряде других эпизодов, так или иначе связанных с темой смерти или увечья. Можно было бы привести немало прочих сцен, в которых появляются и другие сходные детали. Мистер Уилфер, спокойно обедавший у себя в конторе хлебом с молоком, внезапно становится свидетелем любовного объяснения своей дочери с мистером Роксмитом: «— Однако нам надо подумать о папочке, — сказала Белла, — я еще ничего не говорила, давай скажем папочке. И оба они повернулись к папочке. — Только сначала, милая, — заметил херувим слабым голосом, — я попросил бы тебя сначала спрыснуть меня молоком, а то мне кажется, что я ...умираю. В самом деле, маленький человечек чувствовал ужасающую слабость, и колени под ним словно подламывались. Вместо молока Белла спрыснула его поцелуями, а потом дала выпить и молока, и он мало-помалу ожил от ее ласковых забот» (25, 227). В главе VII «Зазеркалья» Король, напуганный фокусами своего Гонца, просит дать ему сначала запеканки, а потом заноз, которые ему очень помогают. Если «опрыскивание молоком» у Диккенса еще можно как-то реально объяснить (скажем, отсутствием воды в конторе), то «запеканка» и «занозы» объясняются исключительно тем, что по правилам игры, которую вспоминает в начале этой сцены Алиса, Зай Атс питается Запеканками и Занозами. Оба писателя развивают предложенный прием: у Диккенса Белла «спрыскивает» отца не только молоком, но и поцелуями; у Кэрролла Король формулирует на основе собственного опыта некий универсальный закон: «— Когда тебе дурно, всегда ешь занозы, — сказал Король, усиленно работая челюстями. — Другого такого средства не сыщешь! — Правда? — усомнилась Алиса. — Можно ведь брызнуть холодной водой или дать понюхать нашатырю. Это лучше, чем занозы. — Знаю, знаю, — отвечал Король. — Но я ведь сказал: "Другого такого средства не сыщешь! Другого, а не лучше!"» (185—186). Как видно из приведенного отрывка, прием у Кэрролла снова разворачивается в ином направлении, чем у Диккенса. Последний достигает мягкого юмористического эффекта благодаря тому, что вводит неожиданную зевгму («спрыснуть», оказывается, можно не только молоком, но и поцелуями), тогда как первый обыгрывает несоответствие между точным (буквальным) и переносным употреблением выражения, вводя строго логические разграничения, обычно не применяемые в языке. У Кэрролла данный прием — логическое «разъятие» привычных языковых формул, близких к идиомам, — становится кардинальным приемом его поэтики (снова и снова в тексте сказки мы наталкиваемся на подобные примеры). У Диккенса он уходит на периферию, играя — в который раз! — лишь подсобную роль. Знаменитый Чеширский Кот Кэрролла, улыбка которого одиноко парит в воздухе, также находит свою параллель у Диккенса. Мистер Боффин, пришедший в мастерскую Венуса, заслышав шаги Вегга, прячется за молодого аллигатора, стоящего в углу. Хозяин дома успокаивает его: «— Я не стану зажигать свечу, пока он не уйдет свет будет только от угольев. Вегг хорошо знаком с аллигатором и не станет его особенно разглядывать. Уберите ноги, мистер Боффин, а то я вижу башмак из-за его хвоста. Голову спрячьте за его улыбкой, мистер Боффин, места вам вполне хватит... вот так, и вам будет очень удобно. Он немножко запылился, но очень подходит к вам по цвету. Удобно ли вам, сэр?» (25, 195). Далее в тексте улыбка аллигатора обыгрывается не раз: Венус оглядывается на «улыбку аллигатора длиной ярда в два»; мистер Боффин выбирается «из-за улыбки аллигатора с таким мрачным выражением лица, что могло показаться, будто аллигатор зло подшутил над мистером Боффином и теперь веселился, прохаживаясь на его счет», комментируя низость Вегга и человеческую подлость (25, 196—200). Подобным же образом улыбка Чеширского Кота появляется в «Стране чудес» несколько раз. Однако и здесь следует провести одно немаловажное различие: улыбка аллигатора у Диккенса есть не что иное, как метонимия, т. е. некая замена ее носителя. Говоря «спрятался за улыбкой аллигатора», Диккенс имеет в виду, конечно, самого аллигатора. Улыбка же Чеширского Кота очень скоро приобретает самостоятельный смысл, не связанный с ее носителем метонимической связью. Оборвав метонимическую нить, Кэрролл превращает ее в знак чистого нонсенса. Из других деталей упомянем дубинку, которую герой Диккенса, так же как и Белый и Черный Рыцари Кэрролла, держит на манер героев кукольного раешника Панча и Джуди; второе яйцо, настойчиво предлагаемое не только Алисе, но и мистеру Боффину; песенку «Любовь, любовь, одна любовь повелевает миром», которую вспоминает Диккенс, глядя на счастливую Беллу (25, 305). Не эту ли песенку приводит и Герцогиня в «Стране чудес» (гл. IX)? Даже из этих далеко не исчерпывающих всего текста примеров очевидно, насколько различно отношение двух наших авторов к казалось бы идентичным единицам, используемым обоими. Элементы, имеющие у Диккенса смысл подсобный, хотя и неожиданный и эксцентричный — ибо какой же юмор обходится без неожиданности и своего, оригинального взгляда, на привычное, — приобретают у Кэрролла самостоятельное, если и не самодовлеющее, значение. Ограничимся пока этими предварительными замечаниями, основанными на наблюдениях о функционировании единиц-аналогов в различных художественных системах. Позже они пригодятся нам для более общих выводов о природе нонсенса. * * * Творчество Льюиса Кэрролла привлекало к себе внимание ряда видных английских писателей XX в., которые посвятили ему эссе, статьи, книги. И хотя работы эти в основном носят общий характер, в них возникает живой образ писателя, воссоздается своеобычный психологический климат, в котором он жил и работал. Немало в них и тонких замечаний об особенностях его художественного дара, которые помогают нам понять природу нонсенса. Всех этих авторов занимает некая двойственность, некое несоответствие между характером творчества и личностью Кэрролла. Эта двойственность становится основной темой эссе известной английской писательницы Вирджинии Вулф, посвященного выходу в издательстве «Нонсач пресс» первого Полного собрания сочинений Льюиса Кэрролла — внушительного тома в 1293 страницы. «Теперь уж делать нечего — Льюису Кэрроллу раз и навсегда надлежит быть собранным воедино, — пишет Вулф. — Нам же надлежит охватить его во всем единстве и полноте. Однако мы снова — который раз! — терпим поражение. Нам кажется, что вот он, наконец, Льюис Кэрролл; мы глядим пристальнее — и видим оксфордского священника. Нам кажется, что вот он, наконец, достопочтенный Доджсон; мы глядим пристальнее — и видим волшебника и чародея. Книга распадается у нас в руках» (248—249). Писательница показывает нам как бы двух совершенно различных людей. Это, с одной стороны, достопочтенный Ч.Л. Доджсон, олицетворяющий собой самую суть респектабельного академического Оксфорда, принявший все условности, добрый, любящий шутки, но и педантичный, обидчивый, благочестивый, жизнь которого, по собственному его признанию, была свободна от тревог и бед. Этот странный субъект «намеревается издать для юных английских девственниц сверхскромного Шекспира, умоляет их задуматься о смерти в тот миг, когда они бегут поиграть, и всегда, всегда помнить о том, что истинная цель жизни состоит в выработке характера...» (250). И в то же время это Льюис Кэрролл, который так непохож на своего двойника. «В этом прозрачном желе был скрыт необычайно твердый кристалл. В нем было скрыто детство. И это очень странно, ибо детство обычно куда-то медленно исчезает. Отзвуки его возникают мгновениями, когда мы уже превратились во взрослых мужчин и женщин. Порой детство возвращается днем, но чаще это случается ночью. Однако с Льюисом Кэрроллом все было иначе. Почему-то — мы так и не знаем, почему — детство его было словно отсечено ножом. Оно осталось в нем целиком, во всей полноте. Он так и не смог его рассеять. И потому, по мере того как шли годы, это чужеродное тело в самой глубине его существа, этот твердый кристаллик чистого детства лишал взрослого жизненных сил и энергии. Он скользил по миру взрослых, словно тень, и материализовался лишь на пляже в Истбёрне, когда подкалывал английскими булавками платья маленьким девочкам. Но, так как детство хранилось в нем целиком, он сумел сделать то, что больше никому не удалось, — он сумел вернуться в этот мир, сумел воссоздать его так, что и мы становимся детьми... Вот почему обе книги об Алисе — книги недетские; это единственные книги, в которых мы становимся детьми» (249). Суть нонсенса Кэрролла Вирджиния Вулф видит именно в этой детской «остраненности» (хоть она, конечно, и не употребляет этого термина), в умении взглянуть на мир «свежим» глазом ребенка. «Превратиться в детей — это значит принимать все буквально; находить все настолько странным, что ничему не удивляться; быть бессердечным, безжалостным и в то же время настолько ранимым, что легкое огорчение или насмешка погружают весь мир во мрак. Это значит быть Алисой в Стране чудес. Но и Алисой в Зазеркалье. Это значит видеть мир перевернутым вверх ногами. Немало всяких сатириков и юмористов показывали нам мир вверх ногами, но они заставляли нас видеть его по-взрослому мрачно. Один лишь Льюис Кэрролл показал нам мир вверх ногами так, как он видится ребенку, и заставил нас смеяться так, как смеются дети, бесхитростно. Мы падаем, кружась, самозабвенно, в чистейший нонсенс и смеемся, смеемся...» (249—250). Г.К. Честертон, которому была особенно близка эксцентрическая манера Кэрролла и который в собственном творчестве использовал ряд его приемов и открытий, в разное время посвятил писателю три эссе. В присущей ему парадоксальной манере он подчеркивает значимость нонсенса. «В честь ребенка, — пишет он в эссе «Библиотека для детской», — девятнадцатое столетие сделало одно подлинное открытие: оно открыло так называемые книги нонсенса. Эти книги — до такой степени творения исключительно нашего века, что нам следует ценить их как электричество или всеобщее образование. Они представляют собой совершенно новое литературное открытие, открытие того, что несообразность может сама по себе быть гармоничной; подобно тому как прекрасны крылья птицы, ибо они порождают мечту, прекрасны и крылья носорога, ибо они порождают смех. Льюис Кэрролл велик в этом лирическом безумии»26. Впрочем, Честертон тут же торопится пояснить свою мысль: сделанное в честь детей открытие нонсенса должно, по его мнению, принадлежать не детям, а взрослым. «Великая литература нонсенса имеет огромную ценность, однако будет по меньшей мере разумно отметить, что это ценность в основном в глазах взрослых. Нонсенс — вещь мередитовской тонкости. Льюиса Кэрролла должны читать не дети; дети пусть лучше лепят пирожки из грязи; «Алису в Стране чудес» ночами напролет должны штудировать мудрецы и седовласые философы, стремящиеся постичь труднейшую проблему метафизики, проникнув в пограничную зону между рациональным и иррациональным, — природу юмора, самую неуловимую из духовных сил, который вечно порхает между ними»27. Трудно согласиться с тем, что сказки Кэрролла вовсе не должны читаться детьми, впрочем, вряд ли и Честертон высказал эту мысль абсолютно всерьез: в ней много от того полемического задора, с каким написаны эти эссе. Однако нельзя не согласиться с той частью высказывания, в которой указывается на ценность литературы нонсенса для взрослых. Вновь и вновь возвращаясь к этой мысли в других эссе, посвященных Кэрроллу, Честертон вносит в нее дальнейшие уточнения. «...Подозреваю, что лучшее у Льюиса Кэрролла было написано не взрослым для детей, но ученым для ученых. Самые блестящие его находки отличаются не только математической точностью, но и зрелостью» (238). Особенность нонсенса Кэрролла Честертон справедливо видит в том, что в нем нашли свое выражение логические занятия Кэрролла. Он подчеркивает интеллектуальный характер нонсенса, выдвигая в то же время тезис об «интеллектуальных каникулах», которые время от времени позволял себе опутанный узами условностей викторианец. «При первом поверхностном взгляде интереснее всего в нем было то, что он вошел в свой собственный иррациональный Эдем именно сквозь эти железные ворота рационального. Все в этом человеке, что могло бы, как это часто бывает у литераторов, быть привольным, легкомысленным и беспечным, было особенно строгим, респектабельным и ответственным. Лишь у его разума бывали каникулы; чувства его каникул никогда не знали; и уж конечно, не знала их и его совесть!.. Его воображение само собой двигалось в сторону интеллектуальной инверсии. Мир логический он сумел увидеть перевернутым, любой другой мир он не сумел увидеть даже в обычном состоянии. Он взял треугольники и превратил их в игрушки для своей маленькой любимицы, он взял логарифмы и силлогизмы и обратил их в нонсенс» (235—236). В эссе «По обе стороны зеркала», где Честертон сопоставляет двух великих сказочников XIX в. — Льюиса Кэрролла и Ханса Кристиана Андерсена, он справедливо обращает внимание читателя на связь, существующую между характером нонсенса Кэрролла и особенностями породившей его викторианской эпохи. «Когда викторианцам хотелось устроить себе каникулы, они их и устраивали, настоящие интеллектуальные каникулы. Они сумели создать мир, который для меня, по меньшей мере, до сих пор остается своеобразным прибежищем и тайными каникулами, мир, в котором чудища, в других сказках устрашающие, превращались в мирных домашних животных. Ничто не отнимет у викторианцев этого достижения. То был нонсенс ради нонсенса. Если мы спросим, где нашли это волшебное зеркало, ответ будет таким: среди очень мягкой и удобной викторианской мебели, иными словами, это произошло потому, что благодаря исторической случайности Доджсон, Оксфорд и Англия в то время наслаждались благополучием и безопасностью. Они знали, что им не предстоит никаких битв, — разве что внутри партийной системы, где Труляля и Траляля условились сражаться, причем уговор их гораздо более бросается в глаза, чем сраженья. Они знали, что их Англии не грозит ни вражеское нападение, ни революция; они знали, что она богатеет за счет торговли; они не понимали, что сельское хозяйство умирает, возможно, потому, что оно уже было мертво; крестьян у них не было» (238—239). Ниже мы постараемся показать ошибочность тезиса Честертона о «нонсенсе ради нонсенса», который он развивает и в других эссе о Кэрролле. Впрочем, с характерной непоследовательностью Честертон и сам опровергает себя в заключительном параграфе того же эссе, где ставится риторическая альтернатива — Кэрролл или Андерсен? «Что же лучше: выделить из застывшего торгашества современного мира пьянящее молодое вино, нет, мед интеллектуального нонсенса или увеличить древнее и великолепное собрание даров фантазии, воссоздав на свой лад великую волшебную сказку, которая на деле является сказкой народной? Я знаю только, что, если вы попытаетесь лишить меня любого из них, я этого не потерплю» (240). Противопоставление «застывшего торгашества современного мира» и «пьянящего молодого вина нонсенса» чрезвычайно многозначительно. Что до «великой народной сказки», т. е. фольклора, то Кэрролл, как нам кажется, в своем творчестве опирался на него не менее, чем Андерсен, только связь его с фольклором имела иной, более сложный и опосредствованный характер. Но об этом ниже. Уолтер Де ла Map (1873—1956), писатель, хорошо известный в Англии и совсем неизвестный у нас, так же как и Честертон, хоть и по-иному, многим обязанный Кэрроллу, посвятил этому писателю книгу. Замечательный сказочник и стилист Де ла Map создал жизнеописание, в котором выделяются страницы интересных и подчас глубоких наблюдений над текстом двух небольших сказок Кэрролла. Не колеблясь, Де ла Map называет «Алису в Стране чудес» «подлинным шедевром», которому можно лишь удивляться, и добавляет: «Еще удивительнее то, что за "Страной чудес" последовало такое совершенное продолжение, как "Зазеркалье". Это звезды-близнецы, и литературным астрономам остается лишь спорить об относительной яркости их сияния» (241). Писатель восторгается художественным мастерством Кэрролла, искусностью использования избранных композиционных приемом (карточной игры и зеркала, «издавна ставившего в тупик детей, философов и дикарей»), подсказавших характеры и положения отдельных основных персонажей. Впрочем, он тут же торопится прибавить: «Все это, правда, имеет не больше отношения к воображаемой реальности (высшей иллюзии) "Алисы", чем сложная хронология и юриспруденция — к "Гремящим высотам", которые, как известно, недосягаемы. Читая сказки Кэрролла, мы едва ли замечаем их искусную композицию, хоть она и необычайно законченна и последовательна. "Как вам это понравится" отличает то же свойство. Какова бы ни была композиция этих произведений, они все равно остались бы по сути самыми оригинальными в мире. Гениальность Кэрролла проявлялась настолько своеобразно, что он сам не осознавал своего дара. Это часто бывает с гениями» (241—242). Де ла Map развивает свою мысль о художественном совершенстве двух сказок Кэрролла, указывая на полную естественность и органичность их звучания при абсолютной фантастичности и ирреальности не только изображенных в них событий, но и большинства действующих лиц. Воздействие обеих сказок Кэрролла на читателя Де ла Map связывает с древним учением о катарсисе. «Они постепенно приводят нас в совершенно особое состояние духа. Изюминка в них начинена порохом огромной взрывчатой силы — или, вернее, золотым песком, — хоть мы никогда, возможно, и не осознаем силы вызываемого им катарсиса. Кэрролловский нонсенс сам по себе, возможно, и принадлежит к тем произведениям, которые, по словам Драйдена, "понять нельзя", но ведь понимать-то их нет нужды. Он самоочевиден и, более того, может полностью исчезнуть, если мы попытаемся это сделать... "Алиса" озаряет солнечным светом все наше существо, словно та сверкающая радуга, которая стала в небесах, когда твари живые вышли на свободу и свет божий из темноты и тесноты ковчега. И каждый из нас под ее влиянием на время освобождается от всех забот. Кэрролловская Страна чудес — это (крошечный и необычайный) космос интеллекта, напоминающий эйнштейновский тем, что это конечная бесконечность, допускающая бесчисленные исследования, которые, однако, никогда не будут завершены. Как синеют в нем небеса, как травянисто зеленеет трава, а животные и растения так освежают душу, как никакие другие не только в этом мире, но и в любой другой из известных мне книг. И, даже если речь пойдет о разнообразии и точности в описании его героев, всех их — от Болванщика до Ящерки Билля — можно сравнить лишь с творениями романистов, столь же щедрых, сколь и искусных, — немалое достижение, ибо создания Кэрролла принадлежат не только к особому виду, но и к особому роду» (243—244). Оставим на совести автора поэтические гиперболы и сравнения, но постараемся запомнить указания на радостный, «очищающий» характер «Алисы» и на сложность организации ее «микрокосмоса». Выше уже говорилось о полемической статье Пристли, направленной против грядущего психоаналитического «взрыва» в интерпретации Кэрролла. Шалтай-Болтай с его произвольными семантическими толкованиями служит для Пристли поводом выступить против произвола, царящего в литературной критике, преследующей, по мнению писателя, две цели: избавить себя от необходимости думать, но при этом создать все же впечатление необычайного глубокомыслия. Вслед за Вирджинией Вулф, Честертоном, Де ла Маром и Пристли к творчеству Кэрролла обратились и другие авторы, европейские и американские. Их замечания, нередко ориентированные скорее на литературную и общественную ситуацию в собственных странах, заслуживают все же внимания хотя бы потому, что, будучи профессиональными писателями, они оказываются зачастую гораздо проницательнее профессионалов-критиков. Нетривиальный интерес поэтому представляет статья видного английского поэта У.Х. Одена «Сегодняшнему "Миру чудес" нужна Алиса», написанная в «американский» период его жизни. Героиня Кэрролла, по мысли Одена, воплощает разумное и моральное начало, противопоставленное фантастическому миру, который в каждой из сказок выступает в особом обличье. Первая сказка, по мысли Одена, ставит перед героиней? особую задачу: она все время пытается «как-то осмыслить и упорядочить» царящую вокруг «анархию, когда каждый говорит и делает все, что вздумается». Во второй книге анархию сменяет полная детерминированность: «возможности выбора в нем нет». Оден проницательно замечает: «В Стране чудес Алисе приходится приноравливаться к жизни, лишенной всяких законов, в Зазеркалье — к жизни, подчиняющейся законам, для нее непривычным. Она должна, например, научиться идти прочь от того места, куда она хочет попасть, или бежать со всех ног, чтобы оставаться на месте. В Стране чудес она одна владеет собой; в Зазеркалье — одна в чем-то разбирается. Чувствуется, что если б не ее пешка, эта шахматная партия так и осталась бы незаконченной»28. Наибольший интерес имеет для нас рассуждение Одена о роли языка в сказках Кэрролла: «В обоих мирах (т. е. в Стране чудес и Зазеркалье. — Н.Д.) один из самых важных и могущественных персонажей не какое-то лицо, а английский язык. Алиса, которая прежде считала слова пассивными объектами, обнаруживает, что они своевольны и живут собственной жизнью. Когда она пытается вспомнить стихи, которые учила, ей неожиданно приходят в голову ни на что не похожие строки, а когда она полагает, что знает смысл какого-то слова, выясняется, что оно означает нечто совсем иное. «— И надо вам сказать, что эти три сестрички жили припиваючи... — Припеваючи? А что они пели? — Не пели, а пили. Кисель, конечно. — ...А эти сестрички жили в киселе! — Но почему? — Потому что они были кисельные барышни. —...Как ты сказала, сколько тебе лет? — Семь лет и шесть месяцев! — А вот и ошиблась! Ты ведь мне об этом ничего но сказала! — ...Он печется... — Печется? О ком это он печется? — Да не о ком, а из чего! Берешь зерно, мелешь его... — Не зерно ты мелешь, а чепуху!» Безусловно, нет ничего более далекого от американского образа героя... чем эта увлеченность языком. Язык — предмет раздумья одинокого мыслителя, ибо язык — отец мысли, а также политика (в греческом понимании слова), ибо язык — средство, с помощью которого мы открываемся другим. Американский герой — не мыслитель и не политик». Известный американский фантаст Рей Брэдбери также отдал дань «Алисе» Кэрролла. Он сравнивает ее с книгой (вернее, серией книг) Фрэнка Баума29 о Мудреце из Страны Оз, которая для американца значит примерно то же, что Страна чудес для англичанина. «Алиса» представляется Брэдбери произведением хоть и фантастическим, но жестоко реальным; Страна Оз — романтической и во многом слащавой мечтой. Приведем это высказывание Брэдбери: «Любопытно сравнить наши воспоминания о Дороти, Стране Оз и Бауме с воспоминаниями об Алисе и Зеркале, о Кроличьей Норе и Льюисе Кэрролле. Стоит нам подумать о Стране Оз, как перед нами возникает целая толпа удивительно милых, хотя и странных, созданий. Стоит нам подумать о тех, кого встречает Алиса, как нам вспоминаются жадные, раздражительные, мелочные, придирчивые, дурновоспитанные дети; они вечно протестуют, когда надо ложиться в постель или вставать, не желают есть, что положено, капризничают из-за погоды: то им холодно, то жарко. Если для механизма, приводящего героев Страны Оз к успеху, смазкой служит Любовь, то за Зеркалом, где заблудилась бедная Алиса, все увязает и захлебывается в трясине Ненависти. Если в четырех странах, окружающих Изумрудный Город, к недостаткам соседей относятся демократично и терпимо, а к чудачествам всего лишь с благодушным удивлением, то каждый раз, когда Алиса встречает Гусеницу, Траляля и Труляля, Рыцарей, Королев и Старух, происходит нечто совсем иное. Это аристократия снобов: на них не угодишь. Сами чудаки и безумцы, они, однако, не выносят чудачеств в других и готовы рубить головы, унижать и топтать всех, кто на них не похож. В нашей памяти обе книги и оба автора живут по зеркально противоположным причинам. Увлекаемые мощными ветрами, мы парим над Страной Оз, словно чудесные воздушные змеи. Устало, с превеликим трудом, тащимся мы через Страну Чудес, изумляясь тому, что все еще живы. При всей своей фантастичности Страна Чудес в высшей степени реальна: это мир, где закатывают истерики и где вас выталкивают из очереди на автобус. Оз — это где-то за десять минут до сна: там мы перевязываем раны, расслабляемся, воображаем себя лучше, чем на самом деле, бормочем обрывки стихов и думаем о том, что завтра, когда встанет солнце и мы хорошо позавтракаем, люди, быть может, уже не будут так лживы, низки и тупы. Оз — это мёд и сдобные лепешки, летние каникулы и все зеленое приволье мира. Страна Чудес — это холодная овсянка, арифметика в шесть утра, ледяной душ и нескончаемые уроки. Не удивительно, что Страна Чудес — любимица интеллектуалов. Также не удивительно, что мечтатели и романтики отворачиваются от холодного зеркала Кэрролла и спешат через запретную пустыню в Страну Оз: пустыня хоть и грозит гибелью, но, будучи неодушевленной, если и губит, то лишь безразличием и зноем. Они стремятся в Оз, потому что там обитают дружелюбные злодеи, которые на деле вовсе не злодеи. Раггедо — всего лишь обманщик и прикида, несмотря на все свои вопли, прыжки и проклятья. А Королева из Страны Чудес рубит головы по-настоящему, и детей там бьют, если они чихают. Страна Чудес — это то, что мы есть. Оз — это то, чем мы хотели бы быть. Мы можем измерить расстояние, отделяющее животное от цивилизованного человека, если протянем бечевку от Кроличьей Норы Алисы до Вымощенной Желтым Кирпичом Дороги, по которой шла Дороти. Это не значит, что нам нужно выбрать одну страну, одну героиню, одних персонажей. Это не тот случай, когда необходимо решать: «либо — либо», «или — или». Можно совместить и то и другое. Печальный и в то же время счастливый удел человечества в том и состоит, чтобы без конца измерять расстояние от того места, где мы находимся, до того, где мы хотели бы быть. Я надеюсь, что поклонники Страны Чудес и Страны Оз не разделятся на два постоянно враждующих лагеря. Это было бы глупо и бесплодно: взрослеющему человечеству дозы реальности нужны так же, как дозы мечты. Я склонен полагать, что, показывая, какие мы в сущности непостоянные, безрассудные, грубые и беспокойные дети, Алиса поставляет нам антитела, необходимые, чтобы выжить в этом мире. Сами дети, конечно, узнают себя в причудливых созданиях с прескверными манерами, которые бродят, топчутся и неуклюже танцуют вокруг Алисы. Но низость, грубость и кошмары — это ужин, лишенный витаминов. Реальность — недостаточно сытная пища. Дети умеют распознать и добрую мечту, когда они ее видят. Поэтому они и обращаются к мистеру Бауму, когда хотят получить кусок вкусного пирога вместо водянистой овсянки и при этом совсем не боятся его злодея, этого Санта-Клауса на деле, только притворяющегося, что он очень страшен. Дети охотно идут на риск захлебнуться в патоке и разведенном сахарине. У мистера Баума и того и другого предостаточно: еще немного и нам пришлось бы назвать его сказочку сентиментальным сюсюканьем» (Пер. Н. Дезен)30. Мы привели сравнение Брэдбери целиком отчасти потому, что оно у нас малоизвестно, но главным образом потому, что в нем подчеркивается реальная и, более того, реалистическая основа нонсенса Кэрролла, кажущегося на первый взгляд совершенной фантастикой. Конечно, Брэдбери был далек от мысли о том, чтобы разбирать метод Кэрролла в контексте породившей его страны и эпохи, он включает его совсем в иной историко-литературный контекст, показывая, каким предстает кэрролловский нонсенс глазам современного американца. Для нас, впрочем, сейчас важно лишь одно — мысль о конечной и принципиальной реальности созданного Кэрроллом фантастического мира сказок. Из многочисленных критиков, писавших о Кэрролле, отметим еще два имени — бельгийца Эмиля Каммаэртса и англичанки Элизабет Сьюэлл, посвятивших нонсенсу специальные исследования. Оба используют для своего анализа огромный материал: не только произведения Лира и Кэрролла, но и фольклор, особенно ту его часть, которая посвящена «чудакам» и «безумцам» и составляет специфическую особенность английского национального самосознания. «Есть два способа вырваться из стен здравого смысла, — пишет Каммаэртс, — либо выбить окна, либо опрокинуть вверх дном всю мебель».31 Первый путь, по мысли Каммаэртса, есть путь волшебной сказки, второй — нонсенса. Нечего и говорить о том, что «здравый смысл» в терминологии критика синонимичен узкой рассудочности, унылому утилитаризму и обывательской морали. Каммаэртс рассматривает различные способы «перевертывания мебели», анализируя стихи, получившие на русском языке название «перевертышей». Э. Сьюэлл рассматривает нонсенс как некую логическую систему, в основе которой лежит принцип игры. Мы еще вернемся более подробно к концепции Сьюэлл (см. гл. IV), пока же заметим только, что она представляется нам чрезвычайно важной для понимания специфики нонсенса и того особого места, которое он занимает в истории литературы32. Советские исследователи-литературоведы подчеркивают связь нонсенса с народной поэтической традицией. В сказках Кэрролла, по мысли В. Важдаева, «не только используются, но и развиваются традиции английского фольклора»33. А Д.М. Урнов пишет: «Обращаясь к народному "абсурду", фольклорному гротеску, литература совершает еще один "бессмысленный" шаг: с сознательной формальной расчетливостью доводит глупость до нарочитого изыска»34. Так возникает, по словам критика, особый эффект, который он называет «"безумием" механически действующих мозгов»35. В статьях советских исследователей найдем немало указаний на связь творческого метода Кэрролла с его научными трудами и интуитивными прозрениями. Первым в этом ряду был В.В. Тренин: «Полет фантазии Кэрролла был подготовлен и обусловлен изысканиями математика...»36. Особенно интересны и плодотворны в этом плане работы Ю.А. Данилова, профессионального математика, отдавшего немало сил внимательному изучению Кэрролла37. В отечественном литературоведении неизменно подчеркивается связь нонсенса с сатирическим изображением действительности. В. Важдаев пишет: «...внешний блеск викторианской эпохи (она совпала с усилением колониального могущества Англии) не обманул писателя. Льюис Кэрролл сохранил трезвость взгляда и необходимую объективность: сказочник и мыслитель, он дал великолепную сатирическую картину викторианской Англии, Здесь и острая пародия на косную, консервативную систему школьного образования, и ироническое изображение остановившегося времени на часе «традиционного» чаепития, бесцельного и нелепого круговорота, в который втянуты персонажи сказки здесь и гордость обитателей сказочного государства по поводу традиционных «постоянных правил» (читай — незыблемости испокон веков действующих законов)...»38. Принципиально важным представляется нам и указание Ю.И. Кагарлицкого на внутреннюю полемику Кэрролла с современной ему бытописательской прозой, исходящей из философии позитивизма, и на связь произведений Кэрролла с традицией английского реалистического романа. Кэрролл, пишет Кагарлицкий, прокладывал дорогу «европейскому неогуманизму», представленному в Англии такими умами, как Уэллс и Шоу, с «их вниманием одновременно к науке и человеку, с их стремлением снова соединить разобщенные интеллектуальные и эмоциональные сферы»39. * * * Итак, сделаем попытку суммировать различные интерпретации нонсенса, восполняя в то же время существующие пробелы и развивая те характеристики, которые имеют, на наш взгляд, принципиальное значение. Оговоримся сразу, что самый термин «нонсенс» мы будем употреблять как в широком, так и в узком значении, т. е. и как метод художественного моделирования действительности, и как разновидность художественных жанров (романтической сказки, стихотворения, поэмы и пр.). Естественно, нас будут особенно интересовать те стороны нонсенса, которые имеют прямое отношение к творчеству Кэрролла. Размышляя о нонсенсе, следует прежде всего, как нам кажется, включить его в тот историко-литературный контекст, частью которого он являлся. 40—70-е годы XIX в. — вот те исторические границы, в пределах которых возникают лучшие произведения «чистого» нонсенса как Кэрролла, так и Лира. 80-е годы в известном смысле являются уже свидетелями кризиса нонсенса и как метода, и как жанра. В этом плане характерен роман Кэрролла «Сильви и Бруно», в котором автор делает попытку объединить структурно-образную систему нонсенса с нравоучительным романом. Попытку, заранее обреченную на неудачу, ибо нонсенс — система настолько своеобычная, замкнутая на себе и своих внутренних законах, что жанровых симбиозов не допускает. Иное дело — сравнительно небольшие вкрапления нонсенса в реалистические или романтические произведения; такое нередко случалось и до середины XIX в., и в более поздние годы. Однако попытки более или менее равноправного объединения структуры нонсенса с любой другой структурой удачных в художественном отношении результатов не давали и, как нам кажется, a priori дать не могли. Этим, вероятно, в частности, объясняется тревожащая незавершенность (не в смысле неполноты текста, но в смысле неполного выявления замысла) многих произведений Честертона. Даже несомненный талант и изобретательность этого автора не смогли преодолеть принципиальной «несовместимости» нонсенса с другими художественными структурами. В этой «несовместимости», возможно, кроется одно из основных отличий нонсенса. Нонсенс, как представляется нам, развивается в рамках позднего романтизма в Англии. Заметим, кстати, что изучение судеб английского романтизма XIX в. в нашем литературоведении отмечено известной неравномерностью. Сравнительно хорошо изучен английский романтизм «классического» периода, т. е. конца XVIII в. — первой трети XIX в. (труды М.П. Алексеева, А.А. Елистратовой, А.А. Аникста, Н.Я. Дьяконовой, Ю.Д. Левина, Е.И. Клименко, Ю.М. Кондратьева и др.). Не так интенсивно, однако достаточно внимательно и подробно изучается романтизм конца XIX — начала XX в., или так называемый неоромантизм (работы М.В. и Д.М. Урновых, И.М. Катарского, Ю.И. Кагарлицкого). Однако романтизм середины XIX в., отмеченный своими особенностями, остается до сих пор очень мало освоенным. Конечно, в истории романтизма этого периода наблюдается значительный спад, однако было бы неверно представлять его как безоговорочное отступление и сдачу позиций, как одно лишь унылое эпигонство по сравнению с великими достижениями классической поры. Позднему романтизму в Англии середины XIX в. принадлежит заслуга разработки ряда оригинальных жанров как в поэзии, так и в прозе. Среди них не последнее место занимает нонсенс. Нонсенсу, как и различным жанрам романтизма классического периода, свойственно решительное неприятие буржуазной действительности, энергичное и недвусмысленное отталкивание от нее. Это сказывается и в специфике материала, и в выборе героев, и в моделировании места, времени и сюжета, а также и прочих структурных форм, и, конечно, в самом принципе организации действия и функционирования персонажей. Стремление перевернуть вверх ногами, вывернуть наизнанку, смешать (или сблизить) высокое и низкое, великое и малое и прочие многочисленные и разнообразные по своей изобретательности гротески и эксцентрические эскапады, которым с таким весельем и блеском предаются Кэрролл и Лир, — конечно, не просто чистая «игра ума», «нонсенс ради нонсенса». Эта эксцентрика, эти гротески суть прежде всего реакция на строгую иерархию ценностей регламентированного и респектабельного викторианского общества. Нонсенс смеется — смех его при всем внешнем легкомыслии, безотчетности и безответственности несет огромный разрушительный заряд. Он равно отрицает основные институты общества: и собственности, и социальной иерархии, и престижа, и унылой житейской морали «здравого смысла», и философии пользы, и религиозности, и пр. Всем этим ценностным категориям он противопоставляет веселый и в самом веселье своем раскрепощающий смех и незамутненность детского «свежего» взгляда, который видит вещи не так, как их положено видеть, а в их первозданной истинности. Просветляющая чистота детства, которую нонсенс заимствовал у романтиков начала века, освободив ее от идеально-религиозного звучания (У. Вордсворд), соединяется в этом новом жанре с культом чудачества, также весьма характерным для творчества многих романтиков тех лет. Из писателей, во многом подготовивших появление этого нового эксцентрического жанра, укажем на Чарлза Лэма, в «Очерках Элии» которого найдем немало тем и мотивов, характерных для «романтического гротеска»40. Детство и чудачество — эти две темы проходят через все очерки (вернее было бы сохранить английское слово «эссе») Лэма, соединяясь в один чуть диссонирующий, веселый и грустный, тревожащий аккорд. «Разумный» («взрослый») мир в контексте очерков чаще всего означает для Лэма мир расчетливый, корыстный и потому уже глубоко подозрительный. Отворачиваясь от тех, в ком воплощаются идеи буржуазного утилитаризма, Лэм подчеркнуто значимым жестом отдает свои симпатии эксцентрикам, чудакам, «дуракам» и детям. В этом отношении программным является его эссе «День всех дураков», открывающееся воспоминаниями о детстве. «С той поры (т. е. с детских лет. — Н.Д.) не приобрел я ни одного мало-мальски длительного знакомства и не завязал ни одной мало-мальски прочной дружбы ни с кем, в ком не было бы капли абсурдного. Честную скособоченность во взглядах почитаю я всем сердцем. Чем больше смешнейших ошибок допускает сей человек в вашем обществе, тем более убеждает он вас в том, что он вас не подведет и не предаст... Читатель, можете положиться на мое слово и, если пожелаете, говорите, что это сказал вам дурак, только в ком нет унции чудачества, в том непременно найдешь галлоны чего-нибудь похуже»41. Немаловажно для нас и то, что, как указывалось, это программное высказывание Лэма предваряется развернутым рассуждением о детстве, откуда, собственно, автор и выносит почтение к «честной скособоченности во взглядах». Нонсенс создает особый, разительно непохожий на реальную действительность мир, отвергающий все правила и законы «здравомыслящего» общества. В этом мире не признают общественных различий, не думают о деньгах и выгодах, не помышляют о спасении души, не ходят в церковь, не благотворительствуют, не лицемерят, не подличают, не боятся смерти, не унижаются перед власть имущими, не страшатся того, что скажут соседи. Здесь думают о самых основах бытия — еде, питье, росте, тождестве, передвижении, сне. Думают и о смерти, и о болезни, и об увечьях только совсем по-иному, чем это делалось в окружающем обществе, диктующем свои нормы. Нонсенс подчеркнуто антидидактичен и внерелигиозен; многое в нем продиктовано желанием «вывернуть наизнанку» известные образчики религиозно-нравоучительной литературы XIX в. и, конечно, общепринятые моральные клише. Вместе с тем было бы неверно, очевидно, отождествлять нонсенс с сатирой. Нонсенс принадлежит совсем иной плоскости, «воссоздавая» себя по принципиально иным законам. От произведений сатирических нонсенс отличает качественно иной характер его смеха, в котором нет ни той публицистической направленности, ни той язвительности, ни той конкретности. Образная система нонсенса носит более отвлеченный, «математический» характер. Будучи менее связанной с конкретными реалиями определенной поры, нонсенс дает возможность для большего числа «подстановок», что позволяет сравнивать некоторые единицы его системы с алгебраическими знаками. Огромная литература, предлагающая свои интерпретации различных единиц нонсенса Кэрролла и в известной, хотя и гораздо меньшей, степени Лира, сама по себе свидетельствует об этой «алгебраичности» нонсенса. И дело тут не только в том, что Кэрролл был математиком по профессии (Лир, в частности, им не был). Здесь, вероятно, сказывается и глубинная связь этого жанра с фольклором, в особенности с волшебной сказкой, которая отмечена высочайшей степенью художественного обобщения, концентрированностью «отвлечения» и «возгонки». Е.М. Мелетинский в своей монографии о волшебной сказке пишет: «Отражение социальных процессов в волшебной сказке очень сложно и имеет не "натуралистический" и не "символический", а обобщенно-типизирующий характер»42. Раскрепощающий, веселый, радостный смех, которым смеется нонсенс, не лишен и известных обертонов. «Хоть легкая витает грусть в моей волшебной сказке...» — признается сам Кэрролл в стихотворном вступлении к «Стране чудес». Та же грусть чувствуется и в миниатюрах-лимериках Лира, и особенно в его поздних, более развернутых стихотворениях-нонсенсах («Мы в восторге от мистера Лира», «Дядя Арли» и пр.). Попытки объяснить это явление одними лишь биографическими причинами — мысли о старости, одиночество, болезнь — вряд ли могут считаться достаточными. Гораздо уместнее вспомнить тонкое наблюдение французского писателя-фантаста Андре Бретона, который видит нонсенс как «реальный выход из глубочайшего противоречия между приятием веры и применением разума»43. Грустные обертоны, возникающие в нонсенсе и Кэрролла, и Лира, вероятно, можно было бы объяснить принципиальной невозможностью разрешения того противоречия, о котором говорит Бретон, невозможностью, которую не могли не чувствовать, хотя бы интуитивно, оба автора. В этой связи следует, как нам кажется, говорить и о той литературно-философской категории, которая (в применении в основном к немецкому романтизму) получила в нашем литературоведении наименование «романтической иронии». В одной из своих ранних работ о немецком романтизме Н.Я. Берковский писал: «В чисто познавательном смысле ирония означала, что тот частный способ освоения мира, который практикуется в данном произведении, самим автором признается неокончательным, но выходы за его пределы тоже всего лишь субъективны и гипотетичны. Поэтому Тик в разговорах с Кепке указывал на двойную природу иронии: "Она не является насмешкой, издевательством, как это обыкновенно понимают, но скорее всего в ней присутствует глубокая серьезность, связанная с шуткой и подлинным весельем". Ирония знаменует и печаль бессилия и веселое попрание положительных границ»44. «Экспериментальная площадка», на которой осуществляет свои построения нонсенс, сравнительно невелика, однако это не мешает произведениям нонсенса отличаться глубиной и сложностью организации. Это особенно относится к сказкам Кэрролла, которые, как все подлинные произведения искусства, функционируют на различных уровнях художественного обобщения. Прежде чем перейти к конкретному их рассмотрению, сделаем еще одно общее замечание, на этот раз относящееся, правда, уже исключительно к Кэрроллу. Обе «Алисы» принадлежат к так называемым литературным сказкам — жанру, получившему в Англии в отличие от Германии и некоторых других европейских стран широкое развитие лишь к середине XIX в. «Короли Золотой реки» Джона Рёскина (написан в 1841 г., опубликован в 1851 г.), «Кольцо и роза» Уильяма Теккерея (1855), «Дети воды» Чарлза Кингсли (1863), многочисленные сказки Джорджа Макдоналда (60—80-е годы), «Волшебная косточка» Чарлза Диккенса («Роман, написанный во время каникул», 1868) по-своему разрабатывали богатейшую фольклорную традицию Англии45. К теоретической «реабилитации» сказки в Англии обратились еще романтики в начале века, противопоставившие творения народной фантазии утилитарно-дидактической и религиозной литературе. Правда, в собственной художественной практике английские романтики использовали народную сказку мало, обратив свое внимание в основном на иные жанры. Однако теоретические установки романтиков начала века, широкое использование ими различных фольклорных форм в собственном творчестве подготовили почву для бурного развития литературной сказки в Англии, начавшегося в 50-х годах XIX в. Важными вехами на пути к созданию нового жанра было знакомство с творчеством европейских романтиков, в особенности немецких, и выход первых переводов на английский язык сказок братьев Гримм (1824) и Х.К. Андерсена (1846). Писатели, обратившиеся к жанру литературной сказки, переосмысливали его в рамках собственных идей и концепций, придавая ему индивидуальное звучание. Рёскин, Кингсли и Макдоналд используют «морфологию» сказки, приспосабливая функции действующих лиц английского и немецкого фольклора для построения собственных сказочных повествований, выдержанных в христианско-этических тонах, в целом не выходя за пределы допускаемых структурой народной сказки редукций, замен и ассимиляций. Особую роль играют у них замены, возникшие под влиянием архаичных или современных религиозных форм, которые В.Я. Пропп называет конфессиональными и суеверческими46. Диккенс и Теккерей создают в своих сказках весьма отличный по самому духу органический сплав, в котором чрезвычайно силен элемент пародии (отчасти и самопародии). Смело комбинируя характерные темы собственного реалистического творчества с романтическими и сказочными ходами, они далеко отходят от строгой структуры народной сказки, сохраняя все же отдельные ее ходы и характеристики (отметим такие особенно важные черты, как «парность» известных элементов, причинно-следственная связь, пусть получающая ироническое осмысление, но, безусловно, существующая у этих авторов, и пр.).
«Алиса в Стране чудес» и «Зазеркалье» стоят гораздо ближе к этой последней, иронической линии развития литературной сказки Англии. Однако они во многом и отличаются от известных нам произведений этого рода В первую очередь это отличие кроется в функциональном характере самой иронии. Сказки Диккенса и Теккерея ориентированы в плане иронии на второсортные образчики мелодраматической и приключенческой литературы, а также в известном смысле на собственные произведения (в обоих случаях мы находим в них ироническое переосмысление своих тем, характеров, сюжетов). Ирония здесь прежде всего пародийна или самопародийна. Ирония Кэрролла, как указывалось выше, носит принципиально иной характер. Элемент пародии, конечно, присутствует и в сказках Кэрролла, однако в более узком, частном плане. Пародия, как ни важна она в сказках Кэрролла, не является в них ведущим жанрообразующим принципом, организующим всю сказку. С разной степенью вероятия можно предположить, что Кэрроллу были известны сказки, созданные его современниками. Оставляя за неимением точных данных в стороне вопрос о знакомстве Кэрролла со сказкой Теккерея до выхода в свет «Страны чудес» (Диккенс опубликовал свою «Волшебную косточку» спустя три года после нее), отметим, что ко времени «Зазеркалья» Кэрролл не мог не познакомиться с ними. Произведения Рёскина, Кингсли и Макдоналда Кэрролл, конечно, хорошо знал. Он был знаком с Рёскином, начинавшим свою деятельность в Оксфорде; с семейством Кингсли и Макдоналдов Кэрролла связывали дружественные отношения. В тексте обеих сказок Кэрролла находим неоднократные примеры перекличек с отдельными эпизодами в произведениях этих писателей47. Однако сходство между сказками Кэрролла и этих писателей ограничивается лишь отдельными деталями. Установка на религиозно-этическое иносказание в рамках структуры народной волшебной сказки была чужда Кэрроллу. «Приключения Алисы в Стране чудес» и «Алису в Зазеркалье» можно, пожалуй, без преувеличения назвать двумя вершинами жанра нонсенса, общую характеристику которого мы старались дать в этой главе. Обратимся к более подробному и конкретному рассмотрению, этих оригинальных и талантливых произведений. И хотя их разделяет во времени несколько лет (замысел первой сказки относится к 1862 г., второй — к 1868 или 1869 г.), основные исходные принципы в них едины. Только, возможно, в «Стране чудес» чуть больше непосредственности, импровизации, что, разумеется, и вполне понятно: эта сказка возникла из устного рассказа, Кэрролл выступал здесь пионером, прокладывающим новые пути в литературе. В начальных главах, где описываются многочисленные трансформации героини, порой ощущается даже некоторая неуверенность. Впрочем, начиная со встречи с Синей Гусеницей голос рассказчика крепнет, чувствуется, что он полностью овладел своим жанром. «Алиса в Зазеркалье», возможно, чуть строже организована, чуть графичнее, чуть грустнее «Страны чудес». Это не мешает обеим сказкам складываться в сказочную дилогию об Алисе, отмеченную высокой художественностью и оригинальностью. * * * Не задаваясь целью раскрыть тайну нонсенса в целом (возможно, она относится к ряду тех загадок искусства, которые едва ли могут быть полностью рационально истолкованы), мы предполагаем в дальнейшем изложении пойти путем анализа некоторых конкретных и, как нам кажется, существенных аспектов сказок Кэрролла, которые важно принимать во внимание при рассмотрении этой проблемы. Примечания*. Теория сексуальности (нем.) **. Способности устанавливать ассоциации и исследования ассоциаций (нем.). 1. Эдвард Лир (1812—1888) — английский поэт и живописец, предшественник Кэрролла и наряду с ним крупнейший представитель нонсенса. Лир ввел в употребление этот термин. Смотри название его сборников «А Book of Nonsense» (1846), «Nonsense Songs, Stories, Botany and Alphabets» (1871), «More Nonsense» (1872). / Основой для первых «бессмыслиц» Лира послужили лимерики — шуточные народные стихотворения. Литературным жанром лимерик стал благодаря Э. Лиру, автору нескольких сборников, иллюстрированных его собственными рисунками. См. также сн. 3 к гл. IV. 2. Oxford Alice, p. 253. 3. Ibid., p. 259—260. 4. Ibid., p. 269. 5. Ibid., p. 270. 6. Leslie Sh. Lewis Carroll and the Oxford Movement. — The London Mercury, 1933, July, p. 233—239. Цит. по кн.: Aspects, p. 212. 7. Ibid., p. 213. 8. Oxford Alice, p. 257—258. Грин отмечает, что поначалу Скотт-Джайлз выдвинул свои соображения «шутливо» (Punch, 1928, 28 Aug.), однако затем развивал их «более серьезно» (Sunday Times, 1965, 25 July). 9. Priestley J. В. «A Note on Humpty-Dumpty». — In: I for One. New York, 1921, p. 191—199. См. также: Aspects, p. 262—266. 10. Greenacre Ph. Swift and Carroll. A Psychoanalytic Study of Two Lives. New York, 1955; Bloomingdale J. Alice as Anima: The Image of Woman in Carroll's Classic. — Aspects, p. 378—390; Empson W. Alice in Wonderland: The Child as Swain. — In: Some Versions of the Pastoral. London, 1935; etc. 11. Моравиа А. Федерико Барочный. — В кн.: Федерико Феллини. Статьи, интервью, рецензии, воспоминания. М., 1968, с. 265. 12. Dickins A.S.M. Alice in Fairyland. — Jabberwocky. 1976, Winter, vol. 5, N 1, p. 20. 13. Taylor A. Through the Looking-Glass. — Aspects, p. 221/ 14. Ibid., p. 224. 15. «Author's Preface» Decoded by Abraham Ettleson, M.D. — Jabberwocky, 1970, March, N 3; p. 5—6. 16. Существует даже мнение — впрочем, насколько серьезное, трудно сказать, — что имя «Льюис Кэрролл» было псевдонимом Марка Твена (L anning G. Did Mark Twain Write Alice's Adventures in Wonderland? — Carrousel for Bibliophiles / Ed. by W. Targ. New York, 1947, p. 358—361. См. также: Aspects, p. 139—142). 17. Как указывает Р.Л. Грин, стихотворение Джорджа Макдоналда было опубликовано в 1861 г. в книге «Victoria Regis», а его знаменитая сказка-аллегория «Золотой ключ» вышла лишь в 1867 г. в сборнике «Встречи с феями» (Dealings with Fairies). Однако друзья читали сказки Макдоналда в рукописях задолго до публикации, и Кэрролл, конечно, мог знать их. 18. Hinz J. Alice Meets the Don. — South Atlantic Quarterly, LII, p. 253—266. См. также: Aspects, p. 143—155. He принимая в целом концепции Хинца, выводящего «Алису» из «Дон Кихота», отметим лишь справедливые наблюдения о близости ряда деталей. 19. Tillotson K. Lewis Carroll and the Kitten on the Hearth. English. VIII, 45 (1950), p. 136—138. К. Тиллотсон полагает, что в начале «Зазеркалья» (рассуждение о белом котёнке и пр.) Кэрролл бессознательно вспоминает пародию на диккенсовского «Сверчка на печи», опубликованную в «Блэквудз мэгэзин», в ноябре 1845 г. (Aytoun W.E. Advice to an intending Serialist. — Blackwood's Magazine, LX. 1845, November, p. 590—605). 20. Oxlord Alice, p. 256. На сходство с «Энеидой» Вергилия указал Дж. Баретт Дейвис (Times Literary Supplement, 1965, 26 Jan.). Имеются в виду строки: «Nemo ex hoc numero mihinondonatus alibit... Omnibus hic evit unos honos» (Aeneid, v. 305 et seq), нашедшие свое отражение в завершении Бега по кругу. 21. П. Хит указывает, что слова Герцогини в гл. IX — «Повесть Черепахи Квази» — «Любовь, любовь, ты движешь миром...» есть последняя строка Дантова «Рая» («безусловно, заимствованная из какого-то второсортного перевода», — замечает Хит). См.: The Philosopher's Alice. Alice's Adventures in Wonderland and Through the Looking-Glass by Lewis Carroll / Introduction and Notes by Peter Heath. New York, 1974, p. 87). В переводе Лозинского эта строка звучит так: «Любовь, что движет солнце и светила» (Песнь XXXIII, 145). Р.Л. Грин, однако, уточняет, что, хотя «в конечном счете» слова эти восходят к Данте, здесь цитируется первая строка популярной песни «Утро любви» (автор неизвестен, записана в Бирмингаме около 1820 г.). 22. Oxford Alice, p. 260, 261, 258. 23. Диккенс Ч. Собр. соч.: В 30-ти т. / Пер. Н. Волжиной, Н. Дарузес. М, 1962, т. 25, с. 78, 145, 326, 466. Далее цитируется по этому изданию, том и страницы указаны в тексте. 24. Для удобства читателя обе цитаты в данном случае приводятся по-русски: в английском тексте обыгрываются, естественно, другие слова и буквы, однако принцип игры в русских переводах передан достаточно близко. 25. Цит. по кн.: Кэрролл Льюис. Алиса в Стране чудес. Сквозь зеркало и что там увидела Алиса / Пер. Н. Демуровой; Стихи в переводах С. Маршака и Д. Орловской. София, 1967. Предисловие переводчика, с. 16. В оригинале Кэрролла выдержан принцип алфавитной (английской!) последовательности. 26. Chesterton G.K. Library for the Nursery. — In: Lunacy and Letters. London, 1958, p. 26. 27. Ibid. 28. Auden W.H. Op. cit. Цит. по русскому переводу: Оден У.Х. Сегодняшнему «Миру чудес» нужна Алиса. — Знание — сила, 1979, № 7, с. 40. 29. Фрэнк Баум (1856—1919) — известный американский писатель, автор 14 книг для детей о Стране Оз. «Мудрец из Страны Оз» (1900) — первая и самая известная сказка из этой серии; русским читателям известна в пересказе А.М. Волкова (Волшебник Изумрудного города. М., 1939). 30. Bradbury Bay. Because, Because, Because — Because of the Wonderful Things He Does. Preface to Raylyn Moore's «Wonderful Wizard, Marvelous Land». Bowling Green, 1973. 31. Cammaerts E. The Poetry of Nonsense. New York, 1926, p. 5. 32. Sewell E. The Field of Nonsense. London, 1952. 33. Важдаев В. Льюис Кэрролл и его сказка, с. 215. 34. Урнов Д. Непременность судьбы, с. 21. 35. Там же, с. 25. 36. Тренин В. Указ. соч. с. 69. 37. Данилов Ю.А. Указ. соч.; см. также сп. 7 в гл. I. 38. Важдаев В. Указ. соч. с. 218. 39. Кагарлицкий Ю. Предисловие. — В кн.: Кэрролл Льюис. Приключения Алисы в Стране чудес. Зазеркалье (про то, что увидела там Алиса) / Пер. с англ. А. Щербакова; Ред. М. Лорие. М., 1977, с. 17. 40. См.: Дьяконова Н.Я. Проза английского романтизма (Чарльз Лэм). — Филологические науки, 1965, № 3. 41. Lamb Ch. All Fools' Day — In: Essays of Elia (1823—1833). Отметим многозначность английского слова «fool», которое включает в себя и глупость, и чудачество, и намеренное шутовство. 42. Мелетинский Е.М. Герой волшебной сказки. М., 1958, с. 8. 43. Цит. по изд.: Jabberwocky, 1970, Autumn, N 5, p. 10. 44. Берковский Н. Немецкий романтизм. — В кн.: Немецкая романтическая повесть. М.; Л, 1935, т. 1, с. XXX. 45. Мы называем здесь лишь самые видные произведения в длинном ряду, насчитывающем не один десяток названий. Подробнее об этом см.: Скуратовская Л.И., Матвеева И.С. Из истории английской детской литературы. Днепропетровск, 1972 (особенно главу III, написанную И.С. Матвеевой, «Повести-сказки Теккерея и Диккенса», с. 31—42); Скуратовская Л.И. Проблематика и жанрово-стилистические особенности сказки Чарльза Кингсли «Водяные малыши». — В кн.: Проблемы метода, жанра и стиля. Зарубежная литература. Днепропетровск, 1975, вып. 2, с. 49—59; Демурова Н.М. О литературной сказке викторианской Англии: (Рэскин, Кингсли, Макдоналд). — В кн.: Вопросы литературы и стилистики германских языков. М, 1975, с. 99—167. 46. См.: Пропп В.Я. Трансформация волшебных сказок. — В кн.: Фольклор и действительность. М., 1976, с. 165—166, 169. См. также: Пропп В.Я. Морфология сказки. М., 1969. В дальнейшем, анализируя структуру сказок Кэрролла, мы будем широко пользоваться разработанными в двух этих трудах понятиями и концепциями. 47. См. цит. выше ст.: Демурова Н.М. О литературной сказке.., с. 130—132.
|
|
Главная О проекте Ресурсы Контакты Карта сайта
© 2012—2024 Льюис Кэрролл.
|